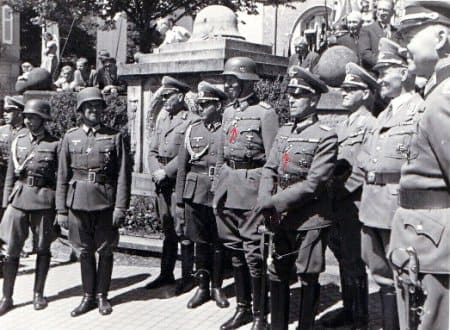Стрелковое оружие
Вооружение
Авиация
Корабли
Календарь событий
История
Биографии
Публикации
Познавательное
Достопримечательности России
Первая помощь
Ордена и медали
Тесты
Том 6. Глава 17. Внешняя политика государств фашистского блока
1. Внешнеполитический курс фашистской
Германии в условиях начавшегося поражения
Героическая оборона Советской Армии летом и осенью 1942 г. привела к срыву наступательных планов вермахта на востоке. Последовавшие зимой 1942/43 г. сокрушительные удары по войскам агрессоров коренным образом изменили ход второй мировой войны, ухудшили внутриполитическое и военное положение фашистской Германии. Все ото отразилось на ее внешней политике. Усилия германских правящих кругов, дипломатии и высшего командования были направлены на то, чтобы удержать в повиновении своих европейских союзников, устранить или хотя бы затормозить появившиеся центробежные тенденции в блоке, сохранить боеспособность их войск, выжать максимальное количество новых людских пополнений, продовольствия и сырья для продолжения вооруженной борьбы летом 1943 г.
Политические руководители рейха не оставляли попыток подтолкнуть Японию к войне против СССР. Некоторые деятели фашистской Германии и ее сателлитов искали возможность завязать тайные переговоры с представителями Великобритании и США о заключении сепаратного мира и совместном с ними продолжении войны против Советского Союза. В правящих кругах государств агрессивного блока нарастали оппозиционные течения, ставившие целью заменить наиболее «обанкротившихся» фашистских деятелей. Некоторые нейтральные страны стремились освободиться от договоров, заключенных ранее с государствами стран оси, а германская дипломатия пыталась сохранить свое влияние на политику этих стран. Гитлер и другие руководители фашистской Германии усилили активность в отношении своих союзников, широко применяя политику кнута и пряника.
Наиболее слабым звеном была Италия, стоявшая после разгрома ее войск на советско-германском фронте и поражений в бассейне Средиземного моря на пороге военной катастрофы. Правительство Италии усиленно искало способ избежать ее. Из Рима в Берлин одна за другой поступали просьбы об оказании обещанной экономической помощи. Германия, всячески старавшаяся спасти своего основного европейского партнера от краха, существенную помощь оказать ему в то время не могла, ибо ее собственные потребности в сырье и вооружении постоянно росли. Вместе с тем между обоими союзниками возникли серьезные разногласия в вопросе о дальнейшем ведении войны.
Идея заключения сепаратного мира с Советским Союзом все больше овладевала Муссолини и некоторыми приближенными к нему деятелями. Он считал, что сепаратный мир с СССР приведет не только к сосредоточению сил держав оси на Средиземноморском театре военных действий против англо-американцев, но и к выгодной ситуации в случае ведения переговоров о мире с западными державами. По его мнению, это создавало также почву для переговоров с ними о переделе мира. Свои соображения Муссолини высказал германскому послу в Риме Г. Макензену в ноябре 1942 г. и Герингу, бывшему в итальянской столице в декабре того же года.
Соответствующие инструкции получил также направлявшийся на встречу с Гитлером министр иностранных дел Италии Г. Чиано. Эта встреча состоялась 18 —20 декабря 1942 г. Фюрер подробно и долго «разъяснял» своему собеседнику обстановку в мире, итоги деятельности оси Берлин— Рим, а также положение на фронтах. Коснувшись вопроса о восточном фронте, он выразил уверенность, что и там дела выправятся. Гитлер назвал несогласованность действий войск союзников Германии основной причиной «трудностей» на этом фронте. Обвинив 8-ю итальянскую армию в недостаточной стойкости в обороне, он потребовал передать Муссолини, чтобы тот обратился к своим войскам на восточном фронте с призывом стоять насмерть.
Гитлер отверг предложение дуче о мире с СССР, сославшись на причины политического и военного характера, а также скорый перелом в военных действиях в пользу фашистского блока, особенно на восточном фронте. В ходе переговоров Чиано стало ясно, что Германия не сможет оказать Италии какую-либо помощь. К тому же фюрер был взбешен донесением Канариса о сепаратных переговорах, которые итальянские дипломаты вели с представителями США в Лиссабоне. Встреча Чиано с Гитлером не оправдала обоюдных надежд на улучшение взаимопонимания между Германией и Италией и, следовательно, на общее укрепление блока.
Разгром на Дону итальянских войск вызвал в Италии резкое обострение внутриполитической обстановки, что сильно обеспокоило Берлин. Во второй половине февраля 1943 г. в Рим был срочно направлен И. Риббентроп. Вернувшись, он доложил Гитлеру, что Муссолини по-прежнему верен общей политике оси. Однако разногласия между партнерами нарастали.
Заверения в верности принципам государств оси не помешали дуче снова попытаться склонить гитлеровскую верхушку к сепаратному миру с СССР. Об этом в начале марта он вновь говорил с Герингом, а 9 и 25 марта писал Гитлеру. Одним из главных доводов Муссолини была рискованность продолжать войну «против безграничных пространств России», которые «никогда нельзя завоевать и удержать». Он обращал внимание фюрера на рост опасности высадки англо-американцев на западе и настаивал на укреплении позиций в Тунисе, что считал жизненно важным для Италии. Дуче отстаивал идею о желательности заключения сепаратного мира с СССР, поскольку начальные захватнические планы итальянского империализма имели другое направление.
Возникшие противоречия не смогла устранить и встреча двух диктаторов, которая состоялась в начале апреля 1943 г. в Зальцбурге. Отказав Италии в поставках вооружения, Гитлер продолжал настаивать на концентрации усилий на восточном фронте и уверял в «неизбежности краха советских армий». Он категорически требовал от Муссолини не помышлять о сепаратном мире с Советским Союзом, а оборону Италии в основном осуществлять собственными силами. Муссолини согласился с Гитлером продолжать выработанную стратегию в войне.
Разгром двух румынских армий под Сталинградом, резкое ухудшение экономического и внутриполитического положения Румынии обострили ее отношения с Германией. Сохраняя резкую враждебность к Советскому Союзу, правящие круги Румынии с конца 1942 г. начали искать пути для переговоров о сепаратном мире с Великобританией и США. Свои расчеты они строили на том, что западные державы больше заинтересованы в предупреждении советского вторжения в Европу, чем в ликвидации гитлеровского режима. В начале 1943 г. румынский диктатор Антонеску, приглашенный в ставку Гитлера, в конечном счете присоединился к категорическим требованиям фюрера продолжать сосредоточивать основные усилия на советско-германском фронте. Они договорились о переформировании и перевооружении румынских войск на восточном фронте. Румыния обязалась заново укомплектовать 19 дивизий. Характерно, что коммюнике об этой встрече прозвучало угрозой всем остальным вассалам рейха. В нем говорилось, что германский союз с малыми странами базируется на принципе каждому по его заслугам после завоевания победы.
Это предупреждение особенно относилось к Венгрии, которая после разгрома ее войск на Верхнем Дону встала на путь политического маневрирования, пытаясь уклониться от выполнения своих союзнических обязательств по отношению к Германии. В начале 1943 г. Гитлер подверг резкой критике действия венгерских войск на восточном фронте и потребовал от руководителей Венгрии направить на этот фронт новые воинские формирования. Однако, несмотря на телеграмму Кейтеля, Венгрия не выполнила требование о посылке трех дивизий в Югославию для замены немецких оккупационных войск, а также о размещении на своей территории новых немецких авиабаз. Венгерские власти указывали, что из 25 венгерских дивизий 18 были отправлены на советско-германский фронт, где большая часть их разгромлена. Однако немецкая сторона не приняла во внимание эти аргументы.
Венгерские правящие круги нащупывали пути для заключения сепаратного мира. С ведома премьер-министра М. Каллаи депутат парламента Г. Кевер в феврале 1943 г. вел переговоры в Лиссабоне с английским представителем, а в Стамбул был направлен редактор иностранного отдела газеты «Мадьяр немзет» А. Фрей, который также встретился с представителями Великобритании. Венгерское правительство преследовало в основном две цели: найти выход из войны и сделать заявку на участие в антисоветских планах Черчилля на Балканах. Тем не менее оно, все еще опасаясь фашистской Германии, продолжало заверять ее, что Венгрия будет выполнять в сердце Центральной Европь: «роль оплота». Такая политика лавирования и выжидания свидетельствовала о серьезной трещине в германо-венгерских отношениях, сомнениях венгерской правящей клики в победу Германии.
В Берлине решили устранить «нелояльное» правительство Каллаи и усилить давление. В марте в Будапешт прибыл личный представитель Гитлера Э. Везенмайер, который рекомендовал М. Хорти заменить главу правительства. В апреле Гитлер, вызвав к себе Хорти, повторил это требование. Последний уклонился от его выполнения, но подписал документ, в котором вновь подтверждалось, что Венгрия будет продолжать войну совместно с Германией против Советского Союза и других членов антигитлеровской коалиции.
Зимой 1942/43 г. обнаружились кризисные явления и во взаимоотношениях Германии с Финляндией. Поражения вермахта на советско-германском фронте и продолжавшееся ухудшение экономического положения Финляндии оказали влияние на политику правящих кругов этой страны. В начале декабря 1942 г., потеряв надежду на победный исход войны, они стали искать пути выхода из нее. Была предпринята попытка определить позицию Берлина в случае предварительного выяснения возможности заключения Финляндией мира с СССР. 8 декабря германское министерство иностранных дел высказало резкое возражение против подобного шага. Одновременно в немецкой печати развернулась критика в адрес финского правительства. Говорилось, например, что, воюя вместе с Германией, Финляндия «не может выйти из войны, как выходят из трамвая, — когда вздумается». Однако определенная часть правящих кругов Финляндии все более убеждалась в необходимости выхода из войны. В середине декабря президент Р. Рюти сообщил об этом посланнику США в Хельсинки.
В марте новым премьер-министром стал Э. Линкомиес, а министром иностранных дел — X. Рамсей. Последний в конце месяца посетил Берлин и поставил вопрос о выводе немецких войск из Финляндии в случае заключения мира с СССР. Германское правительство потребовало прекратить всякие разговоры о мире, угрожая крайними мерами. Для большего эффекта оно даже отозвало на некоторое время из Хельсинки своего посланника. В то время дело не дошло до выхода Финляндии из войны. Правительство ее маневрировало и выжидало, до поры сохраняя союз с Германией.
В тесных отношениях с Германией находилось монархо-фашистское правительство Болгарии. Вместе с тем оно предприняло попытку установить контакты с США и Великобританией. В начале 1943 г. один из лидеров буржуазной аграрной партии вел переговоры в Каире с английскими и американскими представителями об оказании поддержки войскам этих стран в случае их высадки на Балканах. Как правящим, так и оппозиционным буржуазным кругам Болгарии импонировал план Черчилля по созданию балканского блока. Однако Германия не прекращала своего нажима на Болгарию. Она стремилась вывезти из этой страны как можно больше материалов и сырья, не компенсируя этого эквивалентным ввозом. Гитлеровцы фактически установили контроль над болгарской экономикой.
В январе в ставку Гитлера был приглашен болгарский военный министр для обсуждения необходимых мероприятий в случае высадки англо-американских войск на Балканах. Германское командование разработало специальный план — «Гертруда», который должен был вступить в действие, если Турция окажется на стороне Великобритании и США и ее войска вторгнутся в Болгарию. Германия брала на себя оборону этого района Балкан, а правительство Болгарии обязалось выставить в помощь ей 16 своих дивизий. Кроме того, гитлеровцы требовали от него выделить дополнительные войска для борьбы с освободительным движением на Балканах. В конце марта в ставке Гитлера побывал царь Борис III. Он попросил фюрера повременить с требованиями относительно разрыва отношений Болгарии с Советским Союзом.
20 января 1943 г. между Германией, Италией и Японией в рамках Тройственного пакта были подписаны двусторонние соглашения об экономическом и финансовом сотрудничестве. Они предусматривали координацию действий этих государств по мобилизации экономических ресурсов для ведения войны. Дополнительный секретный протокол определял предоставление каждой из сторон преимущественных условий в тех экономических блоках, которые они планировали создать после победы. Вскоре последовало заключение торговых договоров между ними.
Правительство Японии согласилось поставлять Германии каучук, цветные металлы и другие стратегические материалы из оккупированных районов Юго-Восточной Азии при условии, если немцы сами обеспечат их транспортировку. Однако поддерживать связь между Германией и Японией морским путем стало довольно трудно. Например, зимой 1942/43 г, из французских портов вышли 13 немецких судов-блокадопрорывателей, а достигли Японии только 8; в обратном направлении из 13 судов дошли до порта назначения лишь 4. Поэтому с весны 1943 г. основным средством доставки грузов из Азии стали немецкие транспортные подводные лодки. Попытка установить регулярные полеты тяжелых транспортных самолетов по маршруту остров Родос, город Баотоу (оккупированная часть Китая) успеха не имела. Удалось лишь наладить полеты самолетов связи.
Нацистов не удовлетворял характер военного сотрудничества с Японией, так как она, оставаясь главным союзником Германии, была заинтересована в том, чтобы основные силы блок направлял против Великобритании и США. В то же время кабинет Тодзио понимал, что в обстановке затянувшейся германо-советской войны его европейские партнеры не смогут выделить значительные вооруженные силы для активизации боевых действий против англо-американских войск. Поэтому еще в начале 1943 г. в Токио стали склоняться к тому, чтобы побудить Германию и СССР заключить перемирие.
Японская дипломатия действовала в этом направлении через специальные информационные отделы, созданные во всех японских посольствах в странах Европы. В январе 1943 г. на совещании руководителей этих отделов в Анкаре были выработаны специальные рекомендации, направленные на достижение мира между СССР и Германией. Японской дипломатии при этом отводилась роль посредника. «Посреднические» попытки в организации германо-советских контактов предпринял в начале 1943 г. японский военно-морской атташе в Стокгольме. Однако подобные попытки не привели к успеху. 11 марта Гитлер и Риббентроп, еще надеявшиеся на перелом в военных действиях против СССР в свою пользу, дали указание прекратить всякое обсуждение с представителями Японии возможности мирных переговоров. В первых числах апреля японское правительство было поставлено в известность о предстоящем наступлении немецко-фашистских войск в районе Курска.
Продолжавшиеся попытки нацистского руководства добиться, чтобы Япония напала на СССР, оказались безуспешными. 21 января Гитлер, а 19 февраля Риббентроп в беседах с японским послом X. Осимой настаивали па этом. Только в начале марта из Токио пришел отрицательный ответ, вызвавший большое недовольство в Берлине. Хотя японская военщина продолжала вынашивать свои агрессивные планы в отношении Советского Союза, но после разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом она не спешила бросать свои армии на помощь союзнику, которого преследовали неудачи. Это являлось еще одним симптомом нараставшего кризиса агрессивного блока.
Положение на советско-германском фронте и в Северной Африке вызвало в правящих кругах Турции сомнение в победе держав оси. Об этом 2 декабря 1942 г. доносил германский посол в Анкаре. Скрытно проводимые военно-мобилизационные мероприятия турецкой армии застопорились. Заместитель начальника генерального штаба турецкой армии высказал германскому военному атташе «критические замечания» по поводу того, что переданные им сведения о намечавшейся высадке западных союзников в Северной Африке не были учтены германским командованием.
Гитлеровское руководство понимало, что Турцию вряд ли удастся превратить в военного союзника. Главные задачи германской дипломатии теперь заключались в том, чтобы, сохраняя дружественные отношения и продолжая пользоваться ресурсами Турции, удержать эту страну в состоянии нейтралитета и ослабить ее связи с англичанами и американцами. Выполнение этих задач облегчалось позицией турецкого правительства. В декабре 1942 г. Риббентроп дал указание перевести в Турцию 5 млн. марок золотом для «поддержки наших друзей». 31 декабря в Берлине было подписано соглашение о кредите Турции на сумму 100 млн. марок для закупки оружия в Германии. Еще до подписания этого соглашения турецкие официальные деятели заверили немцев, что при любых обстоятельствах рейх будет получать хромовой руды больше, чем Великобритания и США, вместе взятые.
Ведя переговоры с Великобританией и США, министр иностранных дел Турции одновременно убеждал немцев, что его страна не откажется от нейтралитета, даже если державы оси будут находиться накануне своего краха. В конкретных условиях начала 1943 г. германские военные круги оставались в целом довольны позицией Турции.
Поражения войск держав оси от ударов Советской Армии и неудачи в бассейне Средиземного моря повлияли и на другие направления внешней политики Германии.
Фашистская агентура в странах Арабского Востока из числа местных реакционных деятелей потеряла свое влияние. Потерпели провал планы создания «арабского легиона». В конце декабря 1942 г. руководство фашистской Германии отказалось от реализации намеченных ранее планов на Ближнем и Среднем Востоке. 16 января 1943 г. Ирак объявил войну Германии. Бывший глава иракского правительства Рашид Али аль-Гайлани и муфтий Иерусалима аль-Хусейни практически прекратили свою профашистскую деятельность.
В декабре 1942 г. министерство иностранных дел Германии предприняло попытку подчинить своему влиянию Тунис в связи с перспективами военных действии против англо-американских войск и планами развертывания там немецкого экспедиционного корпуса. Ведомство Риббентропа рассчитывало на поддержку со стороны тунисской партии «Дестур». Однако и эти надежды не сбылись.
Изменились задачи германской агентуры в Иране. В связи с отсутствием перспектив на прорыв итало-немецких войск в страны Среднего Востока она получила указания всеми способами (главным образом организацией диверсионных актов на железных и шоссейных дорогах) срывать поставки вооружения и другой техники Советскому Союзу из США и Великобритании. Шла на спад работа германской агентуры в Афганистане, так как правительство этой страны, стремясь улучшить отношения с державами антигитлеровской коалиции, усилило борьбу с происками фашистов.
Германия продолжала проводить пропагандистскую кампанию и подрывную работу в Индии, используя межимпериалистические противоречия в этом районе. Один из лидеров партии Индийский национальный конгресс Бос, бежавший в свое время в Германию и создавший там «штаб» по организации борьбы с англичанами, в феврале 1943 г. был переброшен в Японию, где вел подготовку антианглийских операций в Индии.
С изменением обстановки на фронтах нацисты потеряли всякую надежду на захват колоний в Африке. В начале 1943 г. Гитлер и Борман вынуждены были дать указания о свертывании учреждений и организаций, которые разрабатывали мероприятия по управлению будущими колониями.
Зимой 1942/43 г. особенно тесные отношения с Германией продолжала поддерживать Испания, правящие круги которой оказывали широкую помощь германскому фашизму поставками важного стратегического сырья, а также контингентом войск для восточного фронта. Франко в беседе с германским послом в Мадриде 24 января 1943 г. предложил вести работу по углублению противоречий между Великобританией и Советским Союзом, а также между Великобританией и США. Документы свидетельствуют, что уже в феврале Франко и министр иностранных дел Г. Хор-дана убеждали британского посла С. Хора, что Англии необходимо отказаться от союза с СССР и заключить сепаратный мир с Германией.
Фашистская Германия, несмотря на дружественные отношения с Испанией, опасалась прямо ставить вопрос о ее вступлении в войну. Однако в конце 1942 г. в ОКВ обсуждались различные варианты отражения высадки возможного, по мнению немецкой разведки, десанта англо-американских войск в Испанию. В Мадриде для изучения обстановки в стране побывал адмирал Канарис. 7—12 января 1943 г. по указанию фельдмаршала Г. Рундштедта был разработан план «Гизела». Он предусматривал совместное германо-испанское противодействие возможным англо-американским акциям на территории Испании. По этому плану предполагался ввод немецких войск в важнейшие порты страны. К вопросу о плане «Гизела» германские военные круги возвращались неоднократно и в последующие месяцы.
Германо-испанские переговоры по экономическим вопросам закончились 15 декабря 1942 г. подписанием соглашения, по которому Испания обязывалась увеличить поставки сырья и продовольствия, а Германия — угля, железа, стали, химикатов. В то время германские поставки в Испанию не превышали пятой части испанских поставок в Германию. Испанцы просили поставок разнообразного современного оружия, немцы же обещали в основном легкое вооружение, да и то оговаривали эти поставки определенными политическими условиями. 12 февраля 1943 г. был подписан секретный протокол, согласно которому обещанное оружие испанское правительство должно было использовать для отражения предполагавшегося англо-американского вторжения.
Постепенно меняла свое отношение к фашистскому блоку Швеция. Выполняя ранее принятые обязательства в отношении Германии и поставляя ей важное стратегическое сырье, шведское правительство в декабре 1942 г. добилось более выгодного для себя торгового договора. Оно отказалось впредь кредитовать экспорт и впервые за время войны потребовало оплаты товаров наличными. В начале 1943 г. Швеция не пропустила через свою территорию в Норвегию дополнительные поезда с немецкими войсками, а также сократила количество экспортируемых в Германию железной руды и подшипников. В шведской печати появились статьи, разоблачавшие «новый порядок» в Европе. Германские дипломатические представители в Стокгольме сообщали в Берлин о настроениях общественности Швеции в пользу стран антигитлеровской коалиции. Учитывая изменения позиции Швеции и обстановку на фронтах, верховное главнокомандование вермахта в конце 1942 — начале 1943 г. планировало вторжение своих войск в Швецию, если противник высадит десант в Норвегии.
Составной частью внешней политики Германии было стремление нащупать пути к переговорам о сепаратном мире с США и Великобританией. С этой целью на территории Швеции, Португалии, Швейцарии, Ватикана и других нейтральных государств тайные эмиссары начальника разведки СС В. Шелленберга прилагали немало усилий для установления контактов с англичанами и американцами. Как свидетельствуют документы, в Швейцарии в период между 15 января и 3 апреля 1943 г. Го-генлоэ вел переговоры с Даллесом. Известно, что последний заявил о признании претензий Германии «на промышленную гегемонию в Европе». Активную роль в организации сепаратных переговоров играли сотрудники германского посольства в Швейцарии, представитель фирмы «Норд-дейчерллойд» К. Линдеман, имевший широкие связи с деловыми кругами США, и родственник адмирала Деница Г. Шульце-Геверниц. В пользу сепаратного мира Германии с Великобританией и США действовал и Ватикан. В послании Рузвельту от 5 января 1943 г. папа Пий XII предложил посредничество.
Некоторые представители германского военного командования знали об этих секретных переговорах и стремились выяснить, как обойдутся с Германией ее противники, если она освободится от Гитлера. Два немецких фельдмаршала даже обратились к статс-секретарю министерства иностранных дел Э. Вейцзекеру с просьбой проинформировать их об этом. Германский дипломат воздержался от высказываний, заметив только, что переговоры с противником связаны с большим риском.
Полная оккупация гитлеровцами Франции в ноябре 1942 г. не укрепила политических позиций фашистской Германии в Европе. Скорее наоборот — это создавало новые предпосылки для роста сопротивления французского народа оккупантам и падения авторитета вишистского правительства.
Таким образом, в конце 1942 — начале 1943 г. позициям фашистской Германии на международной арене был нанесен серьезный удар. Усилились трения и разногласия в блоке фашистских государств, ухудшились отношения Германии с нейтральными странами.
2. Италия в поисках выхода из тупика
Зимой 1942/43 г. Муссолини и его ближайшее окружение, как уже отмечалось, пытались найти выход из критического положения, в котором оказалась Италия, в прекращении войны с Советским Союзом. Во внешней политике Италии наметилась и другая линия: добиться сепаратного мира с западными державами на антисоветской основе. Такого взгляда придерживалась большая часть правительства, дипломатического корпуса, промышленных кругов. Он в определенной мере совпадал с политическим курсом других стран фашистского блока, и на этой почве между ними велись переговоры. Румынское правительство, например, искавшее возможностей установить контакты с западными державами через Лиссабон, Мадрид, Анкару, Стокгольм, Ватикан, хотело привлечь к участию в этом и Италию.
В январе 1943 г. румынский министр иностранных дел М. Антонеску через итальянского посланника в Бухаресте Р. Бова Скоппу сообщил о желании своего правительства пойти на мирные переговоры с западными державами и предложил итальянскому правительству вести их совместно. По мнению Антонеску, заключение сепаратного мира с Румынией и Италией было бы выгодно Великобритании и США, так как создавало дополнительную возможность помешать продвижению Советской Армии в Центральную Европу.
Критическое положение Италии заставляло Чиано маневрировать. Муссолини формально отверг предложение румынского правительства, хотя Чиано понимал, что дуче колеблется. Об этом свидетельствовал, в частности, тот факт, что в ходе обсуждения румынского предложения были намечены конкретные лица для осуществления контактов с англичанами и американцами: итальянские послы О. Пеппо — в Анкаре и А. Россо — в Мадриде.
Весной 1943 г. поддержкой итальянского правительства для заключения мира с западными державами пыталось заручиться и венгерское правительство. С этой целью в конце марта в Рим прибыл премьер-министр Каллаи. Однако ему также не удалось убедить Муссолини начать действовать в этом направлении. Вновь, как и в вопросе о заключении сепаратного мира с СССР, обнаружилась двойственная позиция дуче. С одной стороны, крайне трудная внутренняя обстановка, поражения на фронтах заставляли его искать спасения в заключении сепаратного мира. С другой, — чувствуя непрочность своего положения в стране и сознавая, что с заключением сепаратного мира он утратит поддержку гитлеровцев, Муссолини не решался пойти на этот шаг. Не случайно выход Италии из войны он связывал с согласием на это Германии.
Тем не менее министр иностранных дел Италии дал указание продолжить переговоры с англичанами, начатые в ноябре 1942 г. послом в Лиссабоне Ф. Франсони. Итальянскую дипломатию интересовали следующие вопросы: согласятся ли союзники вести переговоры с Муссолини, если он порвет с немцами, будет ли в стране сохранен трон за савойской династией, сохранятся ли права Италии на Албанию, Триполитанию и Эритрею. Было высказано пожелание, чтобы в случае перемирия западные союзники высадили в Италии крупные силы в нескольких районах.
Действуя таким образом, Чиано выражал настроения монополистических кругов, которые были готовы, пожертвовав Муссолини, заключить мир с Великобританией и США. Эти настроения проявлялись в поступках и высказываниях ряда представителей крупного итальянского капитала. Так, Донегани в декабре 1942 г. выступил против проекта таможенного союза с Германией. Это было тем более знаменательно, что он являлся председателем химического и горнорудного треста «Монтекатини», тесно связанного с германскими монополистическими объединениями «ИГ Фар-бениндустри» и «Метальгезелынафт». 7 января 1943 г. Чиано записал в дневнике об откровенной беседе с Пирелли, в руках которого находилась вся резиновая промышленность страны. Тот считал, что война проиграна и пора приступить к переговорам с Великобританией и США. В марте 1943 г. В. Чини пытался доказать Муссолини, что безнадежное состояние итальянской экономики требует немедленного отхода от Германии. Тем не менее, как и Муссолини, Чини полагал, что сделать это можно лишь с согласия последней.
Весной 1943 г. заместитель министра иностранных дел Д. Бастиани-ни, итальянский посол в Берлине Д. Альфьери, начальник генерального штаба В. Амброзио вновь безуспешно пытались уговорить Муссолини порвать с рейхом. При этом Альфьери сообщил, что некоторые нейтральные страны готовы взять на себя посредничество в переговорах с западными державами, а Бастианини подтвердил существование реальных возможностей для таких переговоров. В марте 1943 г. заместитель Чиано добился назначения опытных дипломатов в сохранявшие нейтралитет Испанию, Турцию и Португалию.
Попытку взять инициативу переговоров в свои руки предприняли и представители командования вооруженных сил. В январе 1943 г. в Швейцарии контакты с англичанами устанавливал маршал П. Бадольо, отстраненный Муссолини с поста начальника генерального штаба после поражения итальянской армии в Греции. Через своего посредника он предлагал англичанам начать переговоры об объединении внутренних и внешних усилий, чтобы покончить с фашизмом в Италии. Правительство Великобритании решило оставить этот демарш Бадольо без ответа и не связывать себя обещаниями с отдельными деятелями, не выяснив, сколь значительны силы в стране, на которые они опираются.
По-прежнему вел посредническую деятельность Ватикан. В феврале 1943 г. в Рим прибыл ньюйоркский архиепископ Ф. Спеллман, который наладил связи с заговорщиками против Муссолини, беседовал с королем, членами дипломатического корпуса, аккредитованного при Ватикане, а затем информировал папу Пия XII об итогах своих переговоров. Фактически он выполнял роль посредника между американским правительством, итальянскими оппозиционными кругами и папой. Результатом этой поездки явился выработанный Ватиканом и Вашингтоном план, предусматривавший заключение перемирия и свержение фашистского режима.
Итак, оставаясь в составе фашистского блока и внешне выражая верность принципам оси, правящая верхушка Италии в то же время вынашивала различные варианты выхода страны из войны. Одна группа считала необходимым заключить мир с Советским Союзом и сосредоточить силы на борьбе с Великобританией и США; другая обнаружила стремление к перемирию с западными союзниками, искала у них поддержки готовившемуся против дуче заговору.
3. Внешняя политика Японии
Главной целью внешней политики правительства Японии в конце 1942 — начале 1943 г. было создание благоприятных условий для закрепления и усиления военно-политических и экономических позиций на оккупированных территориях и расширения агрессии, если создадутся для этого благоприятные условия. В Токио рассчитывали добиться этого укреплением союза с Германией и Италией, привлечением на свою сторону реакционных сил в Китае.
Японское правительство стремилось развивать с партнерами по агрессивному блоку экономические связи и координировать военные планы. Однако экономические соглашения от 20 января 1943 г. большого практического значения не имели из-за изменения военно-политической обстановки. Между германским и японским генеральными штабами продолжались контакты, осуществлялась взаимная информация о планах операций и ходе военных действий на фронтах, хотя во взглядах и оценках происходивших событий имелись расхождения.
В начале ноября 1942 г. в Токио стали склоняться к выводу, что Германия не в состоянии достигнуть быстрой победы над СССР. Совет по координации действий ставки и правительства, оценивая обстановку, пришел к заключению, что война Германии против СССР «приняла затяжной характер» и «в зависимости от хода событий вполне возможны ее попытки установить мир с Великобританией и СССР». Японские руководящие деятели чрезвычайно опасались сепаратного мира между «третьим рейхом» и Великобританией, полагая, что в таком случае «Японии придется вести войну с Великобританией и Америкой собственными силами».
Более выгодным для реализации своих планов военно-политическое руководство Японии считало заключение Германией мира только с Советским Союзом. Оно рассматривало такой договор как временную меру, призванную обеспечить концентрацию всех сил фашистского блока вначале для разгрома Великобритании и вывода из войны США, а затем для сокрушения Советского Союза. Япония предприняла попытки содействовать заключению мира между Германией и Советским Союзом, рассчитывая при любом их исходе внести раскол в антифашистскую коалицию и одновременно замаскировать свои приготовления к нападению на СССР.
Ухудшение положения немецко-фашистских войск на советско-германском фронте и обстановки на Тихом океане побудило совет по координации действий ставки и правительства спешно направить в Германию и Италию специальные миссии связи для укрепления отношений с последними и разъяснения им своих позиций. В инструкции, утвержденной 26 февраля 1943 г., миссиям предписывалось разъяснить в Берлине и Риме главную задачу держав оси — «всеми возможными средствами принудить Великобританию к капитуляции и сломить у США волю к вооруженной борьбе». Миссиям было поручено сообщить, что «Япония будет неуклонно усиливать подготовку к войне с СССР».
Члены японского правительства и военные деятели демонстрировали представителям рейха в Токио свое желание укрепить союз с Германией и пытались получить у них информацию о положении на фронтах в Европе и дальнейших планах командования. В феврале 1943 г. германский посол в Токио сообщил в Берлин, что в беседе с ним премьер-министр Тодзио, министр военно-морского флота и другие министры, а также начальники генеральных штабов армии и флота «выражали желание о самом тесном сотрудничестве с Германией». Глава японского правительства проявил особый интерес к событиям в Северной Африке, стремясь выяснить, насколько Германия способна отвлечь силы Соединенных Штатов и Великобритании от Дальнего Востока.
Германия в связи с резким ухудшением положения ее войск на восточном фронте со своей стороны настойчиво требовала ускорить нападение Японии на СССР. Однако в Токио, учитывая соотношение сил на Дальнем Востоке и начавшееся наступление западных союзников на Тихом океане, не решались создавать еще один фронт. 6 марта 1943 г. японский посол Осима по указанию своего правительства заявил в министерстве иностранных дел Германии, что Япония не имеет возможности вступить в войну против СССР, хотя «никогда не может игнорировать русского вопроса». Отказ от немедленного вступления в войну против Советского Союза Осима объяснял опасностью распыления японских сил. На замечание Риббентропа, что «отказ Японии принять участие в войне усилил тяжесть, которую несет Германия», посол ответил, что «Япония в течение продолжительного времени имела намерение бросить свои силы против России, однако пока она еще недостаточно сильна, чтобы пойти на такой шаг». В отношении Италии совет по координации действий ставки и правительства считал в конце февраля 1943 г., что ее возможности для продолжения войны «во многом зависят от Германии».
Необходимо отметить, что отказ Японии от агрессии против СССР в начале весны 1943 г. отнюдь не мотивировался ее желанием соблюдать советско-японский пакт о нейтралитете. Японское правительство проводило по отношению к Советскому Союзу враждебную политику, готовясь напасть на него в благоприятный момент.
На основе многочисленных документов Международный военный трибунал для Дальнего Востока сделал вывод, что «в 1942 г. японский генеральный штаб и штаб Квантунской армии разработали новые наступательные военные планы против Советского Союза, остававшиеся в силе на 1943 г. Трибунал считает, — указывается в приговоре,— что до 1943 г. Япония не только планировала вести агрессивную войну против Советского Союза, но также и продолжала активную подготовку к такой войне».
О продолжавшейся подготовке Японии к войне против СССР свидетельствуют изданные институтом тотальной войны в марте 1943 г. секретные «Сводные исследовательские записки за 1942 г.», в которых раскрываются планы Японии по использованию советских территорий после их оккупации японскими войсками. В главе «Мероприятия по управлению Сибирью (включая Внешнюю Монголию)» в качестве первоочередных задач японских оккупационных властей на захваченных советских территориях выделялись: ликвидация коммунистической идеологии и коммунистических организаций, отмена советских законов, восстановление частной собственности, принудительное переселение местных жителей или закрепление их в качестве рабочей силы для разработки рудных ресурсов, утверждение во всех областях руководящего превосходства японской нации. Кроме этого, японские власти предполагали на оккупированной советской территории «ликвидировать прежние антияпонские взгляды и внедрить в сознание идеи и реальные факты сопроцветания великой Восточной Азии, в центре которой находится Япония».
Так японское правительство, под непосредственным руководством которого работал институт тотальной войны, планировало реставрировать капитализм в СССР, превратить Сибирь и советский Дальний Восток в японскую колонию.
Япония грубо нарушала пакт о нейтралитете, обстреливая советских пограничников и мирных граждан, задерживая суда, перебрасывая на советскую территорию шпионов и целые банды, нарушая границу и территориальные воды.
Цифры свидетельствуют, что по сравнению с 1941 г. в 1942 —1943 гг. количество нарушений советской границы японскими военнослужащими, судами и самолетами неуклонно увеличивалось. Япония нарушала Портсмутский договор, преднамеренно затрудняла советское торговое судоходство на Дальнем Востоке и устанавливала для него ограничения. В связи с этим Осима говорил Риббентропу, что Япония дала возможность России пользоваться только одним морским путем, на котором осматриваются все советские суда в поисках оружия и боеприпасов.
Советский Союз решительно выступал против враждебных актов своего восточного соседа. В 1942 г. Министерство иностранных дел СССР направило японскому правительству десять нот, в которых заявляло протесты по поводу нарушения советской границы, территориальных вод и другой враждебной деятельности.
На рубеже 1942—1943 гг. японское руководство осуществляло политические маневры с целью упрочить свое положение в Китае. В Токио рассчитывали, что хорошо поставленный спектакль об установлении «равноправных» отношений с марионеточным нанкинским режимом Ван Цзин-вэя может подорвать в гоминьдане позиции антияпонских элементов и содействовать переходу Чунцина на сторону Японии.
В конце декабря 1942 г. в Токио был приглашен Ван Цзин-вэй, встреченный с почестями, как «глава китайского национального правительства». 9 января 1943 г. марионеточное ыанкинское правительство подписало декларацию об объявлении войны Соединенным Штатам Америки и Великобритании. Премьер-министр Японии Тодзио в речи по поводу этого акта заявил, что «отношения между Японией и китайским национальным правительством в Нанкине отныне будут строиться на новой, равноправной основе». Он сообщил о решении Японии отказаться от своих концессий на оккупированной территории Китая и передать «национальному правительству» права на международные сеттльменты в Шанхае и Гулансу. В конце марта Тодзио побывал в Шанхае и Нанкине на передаче японских концессий. Выступая с речами, он призывал Чан Кай-ши отказаться от сопротивления. Японские правящие круги надеялись, если будет необходимо, через него установить контакты с США и Великобританией.
Как и следовало ожидать, передача нанкинскому правительству японских концессий оказалась блефом: японские резиденты были оставлены во всех «переданных» концессиях, которые, несмотря на смену вывесок, по-прежнему использовались в интересах Японии. Шумная пропагандистская кампания по поводу «новой» японской политики в Китае, затеянная в Токио, не принесла японцам ощутимых результатов, так как проводилась в обстановке военных неудач фашистского блока на советско-германском фронте, в Африке и на Тихоокеанском театре. Правительство Чан Кай-ши не вняло японским призывам.
Чтобы укрепить военные, политические и экономические позиции в захваченных районах, официальный Токио продолжал рекламировать создание «сферы сопроцветания великой Восточной Азии». Этой пропагандой японские деятели стремились, с одной стороны, замаскировать колониальный режим на оккупированных территориях, а с другой — поднять дух японцев, внушив им веру в прочность завоеваний. Провозглашение «независимости» Бирмы, Филиппин и других стран, имитация внешнеполитических связей с ними, заключение «договоров» и т. д. являлись типичными и своеобразными актами колониальной политики японских империалистов. Созданное для управления оккупированными странами специальное министерство по делам великой Восточной Азии решало типично колонизаторскую задачу — мобилизацию ресурсов захваченных территорий и использование их для ведения войны. Роль министерства иностранных дел в осуществлении политики в этих районах была номинальной.
С ухудшением военно-политического положения стран фашистского блока в конце 1942 — начале 1943 г. среди политических деятелей Японии появились группы, выступавшие за выход из войны. Одну из таких групп возглавляли видные государственные деятели — бывший премьер-министр Ф. Коноэ и ближайший советник императора К. Кидо, опасавшиеся, что развитие военных событий в дальнейшем может стать еще более неблагоприятным для фашистской коалиции. Они высказывались за скорейшее заключение мира с США и Великобританией, рассчитывая, что в ходе переговоров можно будет добиться сохранения японской колониальной империи. В начале 1943 г. Коноэ, Кидо, бывшие послы в Лондоне и Нанкине С. Иосида и М. Сигэмицу, маркиз Ц. Мацудайра, бывшие премьер-министры Р. Вакацуки, К. Хиранума и К. Окада неоднократно обсуждали вопрос о заключении компромиссного мира с США и Великобританией. Однако в тот период дело ограничилось лишь обменом мнениями.
Таким образом, к апрелю 1943 г. японскому правительству не удалось достичь основных внешнеполитических целей. Соглашения об экономическом сотрудничестве с Германией и Италией не принесли ожидаемых результатов в связи с изменением положения на фронтах и трудностями использования путей сообщения с этими странами. Гитлеровское командование, готовившееся к наступательным операциям на советско-германском фронте, не приняло японский план сосредоточения основных усилий против англо-американских войск. Кабинет Тодзио не добился своих целей и в Китае, а его политика укрепления «сферы сопроцветания» не могла встретить поддержку народов оккупированных стран. Влиятельные группы японских политических деятелей стали выступать за прекращение войны. Все это свидетельствовало о начале кризиса внешней политики правящих кругов Японии.
Нараставший коренной перелом в ходе второй мировой войны в пользу антигитлеровской коалиции сказался на международном положении и внешней политике стран фашистского блока.
Основная сила агрессоров — фашистская Германия постепенно теряла авторитет среди своих союзников в Европе и в нейтральных государствах. Все труднее становилось гитлеровской дипломатии сдерживать их центробежные устремления.
Фашистский режим в Италии вступил в полосу глубокого кризиса. Одни представители итальянской буржуазии во главе с Муссолини предполагали осуществить свои политические цели прекращением войны с Советским Союзом, другие — достижением сепаратного мира с западными державами.
Правящие круги остальных европейских союзников Германии продолжали сотрудничество с гитлеровцами. Их объединяла общая ненависть к стране социализма, боязнь расплаты за свои действия, стремление удержаться у власти. Это толкало партнеров фашистской Германии в Европе к лавированию, попыткам заключить сепаратный мир с западными державами на антисоветской основе. В то же время и в германской правящей клике росло число сторонников установления тайных контактов с США и Великобританией, чтобы склонить их к совместной войне против Советского Союза.
Германо-японские отношения, несмотря на трения, базировались на военно-политическом союзе и общих целях в войне. Японский милитаризм еще сохранял достаточно прочные позиции. Но -на данном этапе войны правительство Японии стремилось побудить своих партнеров по блоку к более активным действиям против США и Великобритании. Одновременно оно пыталось реализовать свои захватнические планы собственными силами. Выжидая исхода борьбы на советско-германском фронте, японский империализм не отказывался окончательно от агрессивных намерений в отношении СССР. Однако при всем своем авантюризме японские правящие круги сознавали невозможность одновременно осуществлять свои «южные» и «северные» планы.
Дипломатическая активность Японии была направлена на то, чтобы «узаконить» территориальные захваты в странах Южных морей, изобразить оккупацию как результат «двусторонних соглашений» с Малайей, Бирмой, марионеточным режимом Ван Цзин-вэя в Нанкине и т. д. Дипломатия оси Берлин — Рим — Токио стремилась сохранить свои позиции в нейтральных государствах.
Таким образом, несмотря на кризисные явления, блок фашистских государств еще продолжал активно бороться за осуществление своих агрессивных военно-политических целей.
История второй мировой войны
Новые публикации